 ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
,  ,
, 
Наряду с Конституцией в РФ действует Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод

С. Крючков― Это «Разбор полета» на «Эхо Москвы» — программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. У нас в гостях сегодня член Московской Хельсинкской группы адвокат Каринна Москаленко. Каринна Акоповна, добрый вечер!
К. Москаленко― Добрый вечер!
М. Максимова― Добрый вечер!
К. Москаленко― Слышно и видно?
С. Крючков― Отлично видно и отлично слышно. Проведут этот эфир Марина Максимова и я, Стас Крючков. Марина, добрый вечер и тебе!
М. Максимова― Еще раз, да.
С. Крючков― Уже идет с трансляция на основном канале «Эха» в YouTube, а также на площадке Яндекс.эфир. SMS +7-985-970-45-45 к вашим услугам. Присоединяйтесь к этому разговору со своими репликами и вопросами в адрес нашего гостя.
Каринна Акоповна, вы уже были гостьей программы «Разбор полета» и на наш традиционный вопрос о том, какое из решений было определяющим, сложным в вашей жизни, отвечали в свое время так: «Стать юристом в целом, выбрать профессию». Поэтому прежде чем говорить о частных решениях опытного юриста, сегодня я бы хотел поставить вопрос несколько в ином ключе.
Исходя из сегодняшних жизненных реалий многих наших соотечественников, вот есть закон, есть право, есть контекст применения этого закона. Когда ты понимаешь, что закон служит подпоркой, может быть, не самому симпатичному тебе режиму или не вполне приемлемому тебе образу действий, когда возникает такой выбор или решение — жить сообразно закону, каким бы он ни был, или жить сообразно собственному разумению и пониманию ситуации, в которой закон может быть аморален, может быть репрессивен, может быть несправедлив, как вы определите ту черту, чтобы, с одной стороны, не попасть в лапы силового аппарата, а с другой стороны, не поступиться принципом? Возьметесь?
К. Москаленко― Ну, попробую. Видите ли, я считаю себя анархистом в лучшем смысле этого слова. Кто занимался этой темой, понимает, что движение анархизма — это очень важный аспект вообще в жизни России начала прошлого века. И если я персонально позволяю себе быть анархистом, это означает, что для меня очень важен основополагающий документ.
Вот у нас в России есть основной закон — это конституция. Это конституция, которая дает мне возможность жить в согласии со своей совестью. Вот разных законов много. Есть подзаконные акты — их еще больше. Есть вообще незаконные акты — их тоже достаточное количество. И мне было бы очень трудно. Мне было бы очень трудно выбирать для себя то, что вы говорите: служить какому-то неправому делу или служить какой-то неправильной позиции каких бы то ни было властей — судебных или исполнительных.
У меня такого вопроса нет. К великому счастью, в России была создана конституция. В начале 90-х годов было очень много споров, но нашлись люди, которые ее написали. Знаете, как они ее написали? Там, конечно, есть разные разделы. Меня интересуют 1-й и 2-й раздел. 1-й — это общие положения, и 2-й раздел — это права человека.
Они взяли Всеобщую декларацию прав человека. Они взяли Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт о социальных, культурных, экономических правах — 2 пакта действуют в ООН. И они взяли, скажем, Европейскую конвенцию. Наверное, взяли еще какие-то другие очень важные документы.
Но на самом деле этот наш документ, основной закон России построен таким образом, что он позволяет мне быть юристом. Потому что если завтра в суде кто-то будет ограничивать моих доверителей, моих подзащитных, клиентов в каких-то правах, и эти права предусмотрены Конвенцией по правам человека или российской конституцией, я могу спокойно, в ладах со своей совестью, заниматься этим делом и добиваться права, правового подхода.
И когда мне говорят: «Ну как, вы же знаете, в российском законодательстве нет такой возможности, скажем, обжаловать то или иное неправомерное действие в суд», я говорю: «Нет, извините, пожалуйста. Есть основополагающие нормы. В том числе, российская конституция, которая это закрепляет. Значит, всё остальное извольте подвести под конституцию, а не наоборот».
И вот когда Конституционный суд был в том составе — звездном, блестящем, который я просто обожала… С некоторыми членами Конституционного суда я была в дружбе, к моей великой гордости. Сейчас уже можно говорить о том, что Эрнест Михайлович Аметистов был в этой плеяде юристов, конечно, Тамара Георгиевна Морщакова, другие юристы. И вы знаете, я несколько раз заходила в Конституционный суд с борьбой за конституцию, за конституционные права, и всякий раз была вознаграждена.
Сейчас Конституционный суд тоже выносит определенное количество очень важных решений, которые можно использовать для восстановления прав людей. Иногда Конституционный суд мягко уклоняется от ответа на какие-то очень серьезные, острые вопросы. Наверное, у них есть причины это делать. Но в последнее время я туда, к сожалению, не захожу.
Но у меня есть другая возможность. Дело в том, что наряду с российской конституцией, в нашей стране действует другой абсолютно обязательный акт — а они на уровне, эти 2 акта. Это Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. И знаете, когда говорят: «А вот это у нас в России так решается» — стоп! В России это может решаться как угодно, только это не может на выходе противоречить требованиям Европейской конвенции.
С. Крючков― А как быть в ситуации, когда противоречить-то на выходе не может, а по сути, иной раз срастается, что бац! — и противоречит.
К. Москаленко― Очень просто — бороться. Бороться за то, чтобы не противоречило. Если противоречит, значит, идти в Конституционный суд. У меня вот много друзей-конституционалистов, которые очень эффективно используют эту процедуру. Иногда даже вопреки, может быть, нежеланию властей отвечать на какие-то вопросы. Но Конституционный суд не может не ответить на какие-то вопросы. И они добиваются своего понимания правовой защиты именно через Конституционный суд. Я в большей степени занимаюсь защитой прав человека в Европейском суде. Конечно, это не значит, что я работаю только на Страсбургскую процедуру, и больше мне ничего не важно.
Как мне иногда говорят, «Ты слишком замкнута на Европейском суде и на Европейской конвенции». Знаете, я очень много работаю в российских судах. Это предмет моего огромного профессионального счастья. Потому что я знаю, что я существую как юрист только тогда, когда я в суде, когда я в прениях, когда я в задавании вопросов, когда я в ходатайствах. Иногда в отводах, иногда в возражениях против действий председательствующего. А иногда — это сейчас у меня бывает редко, но в выступлениях перед судом присяжных. Потому что это совершенно особая возможность для российских юристов — донести до присяжных суть своей позиции и своего видения справедливости.
Но если мне что-то не удается на национальном уровне — а поверьте мне… Вы как-то сказали (вот, я даже записала): опытный юрист. Я бы не преувеличивала свою опытность, потому что мы все ошибаемся, мы все далеко не идеальны. Но если я убеждена в своей позиции, и мне не удалось на национальном уровне защитить права человека, вот тогда я иду в Европейский суд по правам человека.
Да, к сожалению, слишком часто. Да, очень многие вопросы по моим делам, по тем делам, которые приходят ко мне — я их не ищу, они меня ищут и находят. И вот по этим самым делам мне часто приходится обращаться в Европейский суд. И тем ценнее мое участие на национальном уровне, когда я с этим же делом обращаюсь в Европейский суд или, скажем, выступаю перед палатой. Это редко бывает, а сейчас еще реже, потому что публичных слушаний в Европейском суде почти не осталось. Но я думаю, что это время вернется. Мы должны жить долго и счастливо.
М. Максимова― Вы довольно оптимистично звучите. В одном из интервью вы как-то сказали, что любите браться за безнадежные дела. И если видите безнадежное дело, то точно ваш клиент. Скажите, нет ощущения, что в последнее время этих безнадежных дел становится очень много? Вы как раз заговорили о борьбе: что делать? — бороться. Не знаю, можно как-то оценить эффективность этой борьбы в нынешнем состоянии?
К. Москаленко― Ну, эффективность — видите, я всегда к себе критически настроена. Конечно, что уж греха таить, меня в одной замечательной статье даже обозвали «чемпион безнадежных дел». Да, действительно, я веду очень много безнадежных дел. Но не по принципу их безнадежности. Если я там не вижу правовой позиции, я не возьмусь за это дело. Но если я там нашла правовую позицию, если я там нашла группу или группы нарушенных прав, и я точно знаю, как это должно быть решено в идеале, то я иду к своему идеалу — к российской конституции и к Европейской конвенции.
И поскольку это всё возможно делать, часть нашей группы занимается Конституционным судом, часть нашей группы занимается Европейским судом по правам человека. И надо сказать, что наша группа юристов с 1999 года является российским отделением Международной комиссии юристов. Это, знаете, дает нам очень большую поддержку. Потому что по сей день и слышат наши проблемы, и читают наши обращения, и как-то реагируют на это. Это очень важно.
С другой стороны, это огромная ответственность. Потому что в России нет национальной секции Международной комиссии юристов, как во многих других странах. Я думаю, она появится. Просто у меня никогда не хватало амбиций на то, чтобы превратить вот эту нашу группу в национальную секцию.
Да и к тому же, знаете, в отличие, скажем, от той же Германии, нам было бы очень трудно ее создать. Потому что в Германии это и судьи, и адвокаты, и прокуроры, и просто практикующие юристы, и ученые юристы. В России всё-таки люди в согласии со своими, если позволено будет так сказать, кастами сильно разделены.
Ну, судья, который со мной поздоровался в коридоре — это, в общем, судья, который просто, наверное, упал в своих глазах или, скажем, в глазах своих коллег. Судьи, как правило, с нами не здороваются. Даже секретари судей или теперь помощники судей с нами разговаривают иногда просто непозволительно грубо, а то и… Ну, не хочется ругаться. Конечно, ставишь на место.
Но вот это единение, то, что мы называем «юридическое сообщество» — во Франции, в Германии, юридическое сообщество в Соединенном Королевстве или в Соединенных Штатах — это, конечно, другое. У нас, конечно, если ты адвокат, то знай свой шесток.
М. Максимова― А это что? Что значит «знай свое место»? В чем неприязнь? То есть они вас заочно обвиняют в чем?
К. Москаленко― Знаете, этим косвенно доказывается вообще такой обвинительный уклон всего нашего судопроизводства. Вот мне иногда по линии ICJ (Международной комиссии юристов) приходилось обследовать процессы в других странах. Да, переводчик даст мне понять, что и как было. Но даже по расстановке сил в процессе вы видите, где процесс справедливый, а где он односторонний.
Я обследовала процессы во многих государствах. Вот последнее заседание в Турции. Это были буквально последние дни, когда еще можно было передвигаться по свету. Прекрасное дело, закончившееся оправдательным приговором. Нет, еще после этого в Италии. Я, скажем, этих двух языков — итальянского и турецкого — не знаю, но по тому, как организован процесс, вы видите, идет ли справедливое судебное разбирательство или там сильный перекос в ту или иную сторону.
Вот в России у меня были наблюдатели из разных стран на разных процессах. Они говорили: «Можете нам не переводить — мы всё видели. Мы видели, что прокурор, обращаясь к суду, встречает внимание суда, а когда адвокат, он говорит, что чем-то занят, или деланное внимание». Это же всё видно.
Я очень много занималась театром в адвокатуре или адвокатурой в театре. Понимаете, это всё зрелищные вещи. Они изобличают очень многие моменты. Скажем, мне режиссер в свое время кричал: «Ты его не любишь!» — мне там надо было кого-то любить. «У тебя пластика врет!». Вот когда пластика говорит одно, а такой внимательный взгляд говорит другое — значит, вы видите, что есть какой-то перекос. В нашей стране явный перекос. Я это начинала, как говорится…
М. Максимова― А была какая-то динамика за это время?
К. Москаленко― Была, и еще какая сильная. Вот 70-е годы — полная безнадега для адвокатуры. И тем не менее, если адвокат, очень хорошо знающий дело, находил возможности убедительно продемонстрировать процессуальные нарушения (сейчас мы скорее сказали бы «нарушение прав человека», но и процессуальные сейчас тоже, а тогда только процессуальные нарушения), то можно было добиться внимания второй-третьей инстанции, вплоть до Верховного суда. Во всяком случае, по принципиальным делам мы всегда доходили до Верховного суда. И я всегда говорила, что если адвокат достаточно принципиален и последователен, он своего добьется.
И вот в 90-х годах началось какое-то удивительное изменение вот этой парадигмы. Вы видели, что действительно не экстраординарными усилиями, не только на процессуальной ниве — вы можете эффективно работать по делу, и вас слушают судьи. И появились оправдательные приговоры.
То есть вот эти 70-80-е, в которые мы и то умудрялись выигрывать дела. А вот 90-е годы — я бы сказала так: российская власть, и судебная власть в частности, очень серьезно восприняла перестроечные моменты. Восприняла то, что процесс действительно должен быть состязательным. И вот несколько лет длился такой оазис, а потом…
М. Максимова― Сейчас опять 70-е?
К. Москаленко― Сейчас не 70-е. Для меня, например, сейчас хуже. Потому что в 70-е годы мне удавалось рано или поздно добиться справедливости. Ну, может быть, мне так везло. Да, конечно, мне везло. Потому что сейчас — мы же забыли — я же перешла на абсолютно безнадежные дела. Ну как же?
Ведь в конце концов, в 70-80-е я не вела политических дел вообще — дел, которые были политизированы с той или с другой стороны. Ну, было у меня одно такое дело, и я его с треском проиграла. А потом раз! — и с треском выиграла. Вплоть до оправдательного приговора, который уже получала не я — получал мой коллега, но на базе того, чтобы было нами сделано ранее.
Но таких безнадежных дел у меня было… Ну, там просто был задействован человек из КГБ, и он всеми своими возможностями, по сути дела, выигрывал дела, тогда как они были абсолютно проигрышные. А в итоге нам всё-таки удалось на процессуальных-таки противоречиях и нарушениях построить эту защиту.
Сейчас у меня действительно перебор таких дел, которые с одного захода не решаются. Это не значит, что они вообще не решаются. Мы, например, проводим дело здесь, в России — неважно в каком регионе — и получаем неудовлетворяющий нас результат. Мы ведь не приговор в Европейский суд обжалуем, правильно? Мы туда обжаловать приговор не можем. Но решение вынесено в результате разбирательства, которое является несправедливым.
Вот только недавно мы закончили, скажем, дело по «Новому величию». Там много было допущено нарушений. Но самое главное, что там есть — это есть элемент провокации. Он, я считаю, у нас достаточно четко доказан. В группу внедрился человек, который из детской… Даже не игры — там даже не было игры в «Зарницу». Там просто было, понимаете ли, общение молодых людей. И он перевел это общение в какие-то совершенно другие рамки. Дети так заинтересовались. Ну, дети — извините, я их так называю. Они, конечно, не дети. «Устав? Ну хорошо. Распечатывать? Будем распечатывать. Надо скинуться». Но всё это шло от него.
И этого достаточно (плюс там, конечно, другие моменты), чтобы сказать, что дети были подведены к тому, чтобы создать некоторую организацию. Я вам скажу: ничего такого преступного в этой организации не было. Того, что им вменяется, и в помине не было. Но даже то, что было — это было, с моей точки зрения, результатом провокации.
Значит, вот мы сейчас проходим все национальные инстанции. Сейчас добавилась такая инстанция, как кассационное рассмотрение дела. И это доказывает, что российские власти очень серьезно относятся к нашим обязательствам перед Европейским судом по правам человека. Они удлинили для нас путь в Европейский суд. По гражданским делам стало 2 дополнительных инстанции. По уголовным делам это, по-видимому, будет еще одна дополнительная инстанция. Это хорошо, потому что российские власти, значит, попробуют решать спорные дела на национальном уровне. Это тоже очень хорошо. Это, я считаю, общевоспитательная роль Европейского суда — она уже сработала.
С. Крючков― Тут нужно быть честными перед российским правосудием, перед российским законодательством, которое обязывает нас называть организацию «Новое величие» признанной экстремистской на территории нашей страны.
К. Москаленко― Да, извините, пожалуйста. Для меня это дети. Но они признаны. Да, я прошу прощения, и спасибо огромное! Можно я тогда этот слоган повторю, потому что это для моей безопасности. Значит, мне довелось участвовать в рассмотрении дела в отношении «Нового величия», признанного в Российской Федерации (я плохой ученик) экстремистской организацией. И моя задача доказать, что эта организация не являлась экстремистской, а всё, что в нее пытались привнести экстремистского — это всё, собственно говоря, результат действий спецслужб.
И вот это мы будем доказывать. Я не говорю, что на сегодняшний день это доказано. То, что для меня является очевидным, я еще должна суметь доказать. А вдруг я не сумею доказать? Поэтому спасибо огромное, Стас, что вы меня поправили.
Я тут уже как-то выступала. Вот сейчас я скажу, что мне довелось защищать «уфимскую двадцатку». «Уфимская двадцатка» ничем не признана. Это просто 21 человек из Уфы, которые… Вот чем они занимались? Они якобы интересовались учением… Сразу скажу, что это учение запрещено в Российской Федерации как террористическое, вообще самое плохое — не знаю, как еще его обозвать. Но там якобы у кого-то из них были найдены книги, литература, которая была связана с этим учением — запрещенным, экстремистским и террористическим — «Хизб ут-Тахрир»*.
С. Крючков― Про российский юридический чемпионат безнадежности мы продолжим говорить сразу после новостей и небольшой рекламы на радио «Эхо Москвы». Это «Разбор полета». У нас в гостях юрист-международник Каринна Москаленко.
НОВОСТИ.
С. Крючков― Это «Разбор полета». Наша гостья сегодня — адвокат, юрист-международник Каринна Москаленко. Сразу после этого эфира «Футбольный клуб» с ведущими Василием Уткиным и Константином Похмеловым. После полуночи «Битловский час» с Владимиром Ильинским. А с часу до 3-х пополуночи программа «Хранитель снов». Каринна Акоповна, вы говорили, что конституция — это ваш идеал. Она таковой остается несмотря на то, что было с ней сотворено, сделано, одобрено (как угодно это назовите) в минувшем году?
К. Москаленко― Ну, знаете, я ведь, как уже вам доложила, анархист. И поэтому все властные и прочие построения меня интересуют меньше, чем принципиальные вопросы 1-го раздела конституции и ключевые вопросы 2-го раздела конституции — права человека. Если я остаюсь жить в рамках 1-й и 2-й главы российской конституции (а до нее пока никто не дотронулся, никто не дерзнул, и очень надеюсь, что никто не посмеет дотронуться), в этом случае я могу на другие, на остальные вопросы не обращать никакого внимания.
Если мне дополнительно рассказывают, что моя семья, состоящая из папы, мамы и некоторого количества (большого количества) детей — это нормальная семья — ну что ж, я приму к сведению. Но если мне кто-то расскажет, что есть другие семьи, я от этого с ума не сойду. А вот если кто-то посягнет на право… Во 2-й главе конституции есть же права, которые мы называем абсолютными правами. И на эти права часто посягают. Но еще никто никогда в открытом прямом эфире не сказал, что эти права можно нарушать.
Я вот, в частности, говорю о праве на защиту от пыток, о недопустимости пыток. Вот это абсолютное право. Вот мне от него очень легко отсчитывать. Власти могут сказать: «Мы расследовали, и нам нужно было получить показания». Или власти могут говорить: «Мы задерживали человека, и нам надо было его убить». А я им скажу: «Нет, вам его убивать не надо было. Это не было абсолютно необходимой мерой защиты. Или вам совершенно нельзя было его пытать. И что бы вам ни казалось по этому поводу, вы преступники».
Вот это я скажу представителям власти по очень многим моим так называемым пыточным делам, которые, к сожалению, не решаются в Российской Федерации, но решаются в Европейском суде по правам человека. Потому что там вещи называют своими именами. А вот те рюшечки, которые придумали для нашей конституции в других разделах — они, конечно, кого-то задевают и, может быть, не украшают эту конституцию, но, во всяком случае, мою деятельность и, честно говоря, мою жизнь они никак не затрагивают.
Вопрос о власти, конечно, очень важен. Потому что я, например, к власти никогда не стремилась. Я с большим восторгом 44 года тому назад пришла в 10-ю юридическую консультацию города Москвы. Тогда существовала только Московская городская коллегия адвокатов — никаких параллельных, никаких перпендикулярных. У нас были одни и те же стандарты. Сколько бы ни ругали те времена, я знаю, что тогда была Московская городская коллегия адвокатов.
И мне заместитель заведующего сказал: «Вы знаете, вы должны понять, деточка (а я действительно была тогда девочка с двумя такими хвостиками), что у нас нет никакой карьеры. У адвоката нет никаких званий, никаких должностей. Я вот сегодня нашего заведующего… У нас тут один заведующий на 60 человек, и почему я его люблю и обожаю — потому что я в любой момент его могу послать. А то, что я зам заведующего…».
Ну извините, я говорю так, как это было мне сказано. И он сказал: «Поэтому если вы хотите здесь делать карьеру, или у вас какие-то другие устремления…». Это мой первый разговор, 1 сентября, когда я после университета пришла в МГКА.
И вы знаете, для меня вот эти отношения самоуправления, которые должны существовать… Почему я говорю «должны существовать»? Потому что сегодня я их не вижу. К сожалению, у нас отчуждение власти от народа происходит во всех областях жизни. Точно так же, к сожалению.
И я это говорю своим коллегам, которых знаю по 40 лет. Ну, сейчас уже мало кто столько времени в адвокатуре. Сейчас в основном в руководящих органах люди, пришедшие не с теми задачами, с какими приходили мы. Может быть, наши не были идеальными, но уже есть какое-то понятие начальства, какого-то начальствующего состава адвокатуры. Для меня это нонсенс. Для меня это сапоги всмятку. Для меня это просто непереносимо.
Так вот, я немножко отошла в сторону. Не стремясь сама к власти никогда, я даже в своей организации всё время передавала. Начинала что-то и обязательно вводила выборность, переизбрание, чтобы не было, знаете, закостеневания, не было такого… Ну вы понимаете меня. Я хочу, чтобы руководство было не постоянным, а временным, обновляющимся. И я считаю признаком тяжелейшей стагнации, когда власть передается из рук в руки, из своей правой руки в левую руку, из левой руки в правую руку. Для меня это, конечно, бедствие.
Поэтому если другие разделы конституции будут такие вещи разрешают или попускать, то для меня это, конечно же, зло. Но зло для государства. А я человек негосударственный. Я человек очень и очень частный. Я всегда защищаю интересы маленького человека. Даже если он вчера был очень большим, потому что был богатым и знатным, то сегодня он уже маленький, потому что перед нашими судами, к сожалению, все люди маленькие. И все мы маленькие, и мы все нуждаемся в защите.
И вот человек, который знает нормы права и прежде всего не только знает конституцию… Конституция — малюсенький документ. И Европейская конвенция — это малюсенький документ. Но там есть прописанные права, которые нельзя нарушать. А дальше делайте что хотите.
Но если бы, скажем, в нашей стране с уважением относились к правам, гарантированным статьями 9, 10 и 11 конвенции (это право на свободу совести, право на свободу выражения мнения и право на свободу митингов, шествий и других возможностей участия в мирных публичных акциях), то, конечно, у нас была бы другая жизнь. Потому что тогда народ бы легче услышали.
И опять, если вы взглянете на эти вопросы, на эти проблемы с точки зрения Европейской конвенции… Но я повторюсь: конвенция — малюсенький документ. Есть огромные тома того, что мы, юристы, называем case law, прецедентов. Таких решений по конкретным делам — по России, по любой другой стране — которые являются общеобязательными. И тогда мы бы поняли, что абсолютно незаконны в большинстве случаев запреты публичных мирных акций. Понимаете, есть решения Европейского суда, которые надо исполнять.
И дальше вы меня спросите: а что же ты, Каринна, ничего не делаешь по поводу стадии исполнения решений Европейского суда? Я вам честно скажу: мы все были увлечены выигрываем дел. «А, я уже выиграл 90 дел». «Ах, я выиграл сотню дел».
У меня сейчас есть моя бывшая ученица, а ныне моя глубокоуважаемая коллега, которая, что называется, переплюнула меня и выиграла, по-моему, уже 180. Нет, я уже сбилась со счета — неважно. И это не одноклеточные дела, как мы их называем, не всегда простейшие дела. Это бывают очень сложные дела — такие дела, которые создают прецедент для сотен, тысяч будущих дел.
И в этом случае мы, конечно, должны делать следующее. Как только дело выиграно, надо отслеживать его исполнение. И для этого есть нам в помощь 14-й протокол Европейской конвенции. Тоже маленький документ, но документ, который породил большие последствия.
Оказывается, каждое государство должно 4 раза в год отчитываться перед комитетом министров Совета Европы. А мы, юристы, должны свои отчеты, свои меморандумы, свои доклады туда посылать на предмет исполнения или неисполнения решений Европейского суда.
И когда у меня президиум Верховного суда Российской Федерации отменяет приговор, потому что до этого Европейский суд признал нарушение права на справедливое судебное разбирательство, я понимаю, что пусть я 10-12 лет занимался этим делом (поначалу всегда сложно), я очень надеюсь, что все мои последователи, все мои друзья, мои коллеги, которые будут дальше работать над этим, потратят на это гораздо меньше времени. Но пусть даже проходит 12 лет — ты получаешь решение, к которому шел ты и твой подзащитный.
Да, мы после этого проводим суд присяжных. Он приходит к каким-то выводам. Об этом можно долго говорить и интересно говорить. Кто-то оправдан, кто-то осужден, кто-то освобожден из-под стражи и говорит: «Я не хочу дальше бороться». А у меня был такой подзащитный, которого сразу же освободили из-под стражи. Он сказал: «Нет, я буду бороться», и таки добился оправдательного приговора — вместе с нами, юристами, которые его поддерживали.
Знаете, да, это очень сложный процесс. Значит, я теперь понимаю свою задачу так. Я веду дело на национальном уровне. Это очень увлекательно, очень интересно, но иногда очень болезненно для вашего сердца. Потому что вы видите, что вас не слушают. Или вы даже заставляете себя слушать, но всё равно вас не услышали, доводы ваши принять во внимание не захотели. Вы проходите все инстанции, вы направляете дело в Европейский суд.
Вы, скажем (далеко не всегда, совсем не всегда), выигрываете дело. Если дело признано приемлемым, вы, скорее всего, его выиграете. Это вот добиться приемлемости дела сложно. 90 с лишним процентов дел неприемлемы — это чтобы вы понимали. Но если вы уже добились приемлемости дела, то вы, наверное, его выиграли.
И потом вы не остановились. А особенно не остановились, если это такая системная проблема, которая давно уже ваше внимание привлекла, многих людей мучает, многим людям создала множество проблем и несчастий. И тогда вы последовательно добиваетесь исполнения этого решения.
И тогда вы говорите в комитете министров: «Вы понимаете, какая вещь? Вот по делу Идалова (ну, не будем всех перечислять) Верховный суд Российской Федерации, его президиум отменил приговоры. Но вдруг, скажем, по делу Пичугина, по делу Изместьева, по делу Навального…». Нет, у Навального отменили приговор. Там, правда, сейчас идет, но один приговор отменили, а по другим делам не отменили.
Значит, не всегда российские власти восстанавливают права на национальном уровне. Это тема для комитета министров. А дальше всё зависит от того, насколько серьезно власти той или иной страны (в данном случае России) относятся к своему членству в Совете Европы.
Вот недавно одна страна, соседняя с нами, сказала: «Ну пусть посидит». Тогда комитет министров вынес еще одну резолюцию и дал определенный срок. Уже хотели сказать: «Пусть посидит», а нет — пришлось человека из-под стражи освобождать. Потому что государство серьезно относится к своему членству в Совете Европы.
Да, есть какие-то политические мотивы, которые не позволяли это сделать сразу. Но это сделали. В Российской Федерации мы, наша группа юристов, International Protection Center, неоднократно добивались того, чтобы принимались экстренные меры, скажем, по 39-му правилу, которое сегодня стало так популярно. Человека бы не выдали в другую страну, или человеку оказали срочную медицинскую помощь, и уже после этого продолжили дело в обычном режиме.
Каждый раз государство должно себя проверять на законопослушность. Ведь мы живем в Европе, и соседняя страна может точно так же не выполнить свои обязательства, как мы этого не сделали. И что это будет? Это не должно существовать в Европе. Все ответственные государства это понимают и требуют друг от друга.
Вот это интересно: никто из нас никогда не был на заседании комитета министров, но мы немножко знаем, как это происходит, потому что мы потом читаем документы. Так вот каждое государство требует от своего соседа по планете, по континенту выполнения решений Европейского суда, чтобы быть доказательными и имеющими моральное право требовать.
Скажем, Германия, немцы — молодцы. Взяли и все эти сложные решения, которые у них никак не исполнялись (они были принципиально против каких-то там моментов, были несогласны), вынесли на Конституционный суд Германии. Нашли возможность хотя бы частично, хотя бы в той мере, в какой это требовалось по решению Европейского суда, исполнить эти решения. И теперь эта страна с полным правом, обращаясь к своим соседям по континенту, говорит: «В Европе должны исполняться решения Европейского суда».
С. Крючков― Каринна Акоповна, извините, что вас перебиваю. А если сосед таков, что не выполняет, вот хоть ты тресни? Вы упомянули 39-е правило. Есть прецедент Навального. Есть история с его возвращением и помещением под стражу. Какой ресурс воздействия есть? Да, мы прошли все стадии в Европейском суде. Да, мы достигли некоего финального решения, в ультимативной форме предъявленного требования: исполнить то или иное…
К. Москаленко― А вот теперь я вас перебью. Если вы сказали об этом прецеденте, то я вам могу сказать только одну вещь (остальные вопросы будут освещать его адвокаты, к которым я отношусь с большим уважением): еще не все этапы прошли. Потерпите, не всё сразу делается. Единственное, что тревожит в этом вопросе — это я уже говорю не как юрист, не как адвокат, а как гражданин своей страны и просто человек, homo sapiens: тревожит состояние здоровья Алексея. Чтобы только не поздно было.
Понимаете, когда в свое время мои коллеги боролись за Василия Алексаняна, мы тоже боялись его потерять, боялись, что он не выдержит тюремного режима. И Россия всё-таки нашла возможность — рано или поздно (лучше бы раньше, но всё-таки не слишком поздно) она исполнила всё, что было предписано. Точно так же по целому ряду моих дел за последние 3 года я по 39-му правилу четырежды обращалась к вопросам состояния здоровья.
И надо сказать, что Европейский суд не всегда сразу применяет 39-е правило. Он исследует ситуацию. И в период этого исследования, что очень важно (поверьте, на практике это очень важно), ставит вопросы правительству. Для многих моих подзащитных вот эти поставленные Европейским судом в этой предкоммуникации, даже в документационный период выяснения неясных вопросов, эти вопросы спасли жизнь некоторым моим подзащитным.
Я не буду недооценивать эту форму работы. Все формы работы ценны. Надо только работать друг с другом — и суду с государством, и государству с судом — в духе добропорядочности, добросовестности. Ведь вы знаете, у Европейского суда существует презумпция добросовестности властей. И пока вы эту презумпцию какими-то доказательствами, фактами, документами не разрушите, эта презумпция будет существовать. Так же, как бремя доказывания нарушения будет лежать на вас, на заявителях, на нас, на представителях заявителей.
Это очень важно осознавать. Поэтому иногда вот эта шапкозакидательская форма обращения к Европейскому суду — дескать, вы же знаете, что в России все права нарушаются… Стоп, в России есть много нарушений. Но нельзя так ставить вопрос. И потом, не все права, а защищенные конвенцией. И потом, не все права, защищенные конвенцией, а какие-то конкретные права.
Вот я упомянула, что больше 90% дел признаются неприемлемыми, жалобы признаются неприемлемыми. А почему? Очень многие обвиняют в этом Европейский суд. Говорят: «Ну, туда насажали этих представителей государства или сочувствующих государству». Некоторые просто говорят: «Да там сидят одни гэбэшники. Вот так упрощать нельзя.
С. Крючков― Каринна Акоповна, можно я задам такой вопрос? Вот смотрите: хорошо, презумпция добросовестности…
К. Москаленко― Я просто хочу сказать, что требования надо предъявлять прежде всего к самим себе. А правильно ли я написал? А правильно ли я сделал? А доказал ли я? Потому что бремя доказывания, оказывается, лежит на мне, на заявителе. Простите, Стас.
С. Крючков― Извините еще раз. Если исходить из того, что презумпция добросовестности — это юридическое понятие, тем не менее, сотни (как минимум, десятки) российских историй, которые подтачивают ту самую презумпцию добросовестности, о которой мы говорим, в отношении нашей страны.
К. Москаленко― Абсолютно верно, Стас! Именно это нам иногда удается по таким делам, как бесчеловечное обращение с заключенными. Если 100 человек обратилось и уже выиграли свое дело, если 250 жалоб с аналогичными вопросами лежат в Европейском суде, то Европейский суд говорит государству: «Всё, ваше слово уже не является столь определяющим. Мы установили некую системную проблему. И теперь у заявителя есть фора просто сообщать нам, что это так, а у вас будет обязанность, то есть бремя, доказывать, что в данном случае это было не так. Потому что в обычных случаях это так».
Вот тогда рождается такое дело — как мы их называем, пилотное дело Помните, я говорила? — одно, которое дает возможность выигрывать десятки, сотни и тысячи дел. И они большинство идут на мировое урегулирование спора, когда государство признает нарушение и просто выплачивает компенсацию. Но если заявитель настаивает, что его дело не деньги, а необходимость получения решения Европейского суда, потому что то-то и то-то, человек может продолжить поддерживать свою жалобу.
М. Максимова― У нас в России, по статистике, с выплатами лучше, чем с выполнением решений полностью.
К. Москаленко― Я бы сказала, что намного лучше, чем в некоторых странах — не будем кивать на статистику. И я бы сказала, может быть, благополучнее всего. Но если вы на чашу весов положите, скажем, все выплаченные компенсации и одну невыплаченную компенсацию, то вы можете убедиться, что это можно по-разному оценивать.
И всё-таки надо быть справедливыми: российские власти всегда стараются в срок выплатить все компенсации. Потому что вообще-то если не выплачивать эти компенсации в срок, то потом нарастают определенные проценты. И все государства, если уже выплачивают, это выплачивают срок.
Другое дело, что иногда российские власти требуют пересмотра дела в Большой палате. Скажем, дело Котова или другие дела были пересмотрены в Большой палате, и Большая палата вынесла решение в пользу Российской Федерации, вопреки мнению палаты, которая вначале рассматривала — из 7 судей. Вот, пожалуйста, 17 судей собрались и по-другому посмотрели на эти возможности. Поэтому когда власти говорят, что это неправильное решение — идите в Большую палату, просите, обращайтесь, мотивируйте. Всё надо мотивировать.
С. Крючков― У нас всего 1,5 минуты, Каринна Акоповна. Можно я задам такой вопрос…
К. Москаленко― А вы обещали, что мы будем целый час.
С. Крючков― А час-то уже пролетел практически. Смотрите, юрист всё-таки, наверное, с ощущениями не работает. Но, тем не менее, исходя из услышанного, я делаю для себя вывод, что российское государство или российское правосудие, работающее, условно, в кавычках, на внутреннем рынке, и российское правосудие, действующее или разбираемое в Европе — это две несколько разных реальности. То есть наше государство ведет себя в ЕСПЧ несколько, что ли, более нежно, взвешенно…
М. Максимова― Состязательно.
К. Москаленко― Состязательно, правильно. И кстати, у российских властей иногда не хватает привычки к состязательности. Потому что они просто приходят со своей позицией. Ну, как в российский суд. А там тоже суд, но там почему-то сразу на ура всё не принимают.
Знаете, это нормально. Я вам приведу слова одного прокурора из Нидерландов. Это было еще лет 20 назад, когда он выступал, я запомнила. Он говорит: «Еще какие-то 20 лет назад я бы сказал: «Что, какой Европейский суд? Какие вообще иностранные заморочки? Это моя страна, а я здесь прокурор»».
Просто поймите: эти страны уже по 50 лет и больше в Совете Европы. Они по 50 с лишним лет получают эти решения, исполняют, и уже адаптировали свою систему к европейским стандартам. Это нормально. И дай бог, чтобы наше государство через тернии к звездам… Понимаете, Голландии вот такая, а Российская Федерация — вот какая громадная страна. Хочется всего и сразу, но не всё и сразу получается.
С. Крючков― У Российской Федерации есть юрист, адвокат Каринна Москаленко, которая многое делает в ЕСПЧ для того, чтобы мы смотрелись несколько более выигрышно. Это было «Разбор полета». Провели программу Марина Максимова и Стас Крючков. Каринна Акоповна, огромное вам спасибо!
К. Москаленко― Спасибо вам!
М. Максимова― Спасибо, до свидания!
К. Москаленко― Всего доброго!
Источник: Эхо Москвы, 26.04.2021
* «Хизб ут-Тахрир» признана террористической и запрещена в РФ.
Поддержать МХГ
На протяжении десятилетий члены, сотрудники и волонтеры МХГ продолжают каждодневную работу по защите прав человека, формированию и сохранению правовой культуры в нашей стране. Мы убеждены, что Россия будет демократическим государством, где соблюдаются законы, где человек, его права и достоинство являются высшей ценностью.
45-летняя история МХГ доказывает, что даже небольшая группа людей, убежденно и последовательно отстаивающих идеалы свободы и прав человека, в состоянии изменить окружающую действительность.
Коридор свободы с каждым годом сужается, государство стремится сократить возможности независимых НКО, а в особенности – правозащитных. Ваша поддержка поможет нам и дальше оставаться на страже прав. Сделайте свой вклад в независимость правозащитного движения в России, поддержите МХГ.

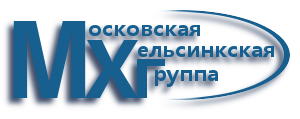



























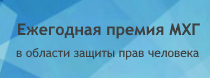
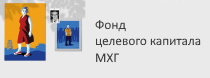

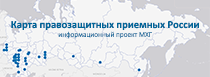



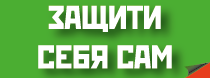
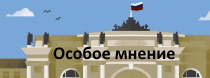

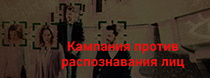

Статьи, мнения и комментарии
Леонид Никитинский
Каринна Москаленко
Лев Шлосберг
Владимир Кара-Мурза *
Мария Эйсмонт
Леонид Никитинский
Галина Арапова *
Татьяна Котляр
Илья Шаблинский
Александр Верховский
Борис Альтшулер
Мария Эйсмонт
Дмитрий Иванов
Вячеслав Бахмин
Илья Шаблинский